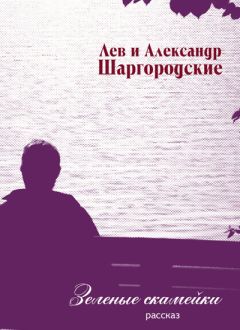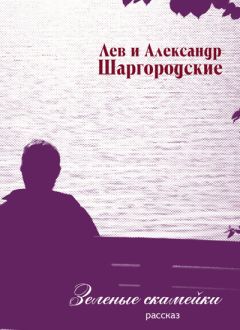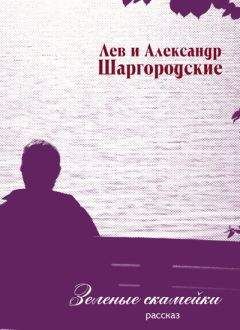Александр и Лев Шаргородские - Министр любви [cборник рассказов]
— Шапольский, — сказал Гур, — каждый раз, когда я здесь бываю, у меня чувство, что я шел с Моисеем, что воевал с Амалеком.
Шапольский удивленно смотрел на друга.
— Гур, мы знакомы тридцать пять веков, — сказал он. — Ты помнишь, как мы жевали манну и перепелов?
— С тех пор я предпочитаю перепелов, — заметил Гур.
— Гур, — сказал Шапольский, — я хочу купить верблюда, уйти в пустыню и кочевать от колодца к колодцу, гнать стадо и размышлять. Кровь Авраама все еще бродит в нас. Мы кочуем и нигде не можем найти себе места.
— Еврей — тот, кто не может найти себе места, — произнес Гур.
Они закурили и молча смотрели на бегущие тучи.
— Мы кочевники, Шапольский, — повторил Гур. — Оседлые народы не любят кочевников. Мы кочуем во времени, в пространстве, в самих себе. Нам милостиво разрешили создать государство, чтобы мы осели. Они хотели очиститься от комплекса вины, Шапольский, а заодно очистить от нас мир. Чтобы мы не возвращались из лагерей в Европу, чтобы мы покинули их Америку. Да — да, не жги меня своим страшным интеллектуальным оком… И в глубине своей оседлой души надеялись, что нас всех здесь утопят в море… Вот какие мысли приходят ко мне, Шапольский, в пустыне… Ерунда, что Б — г наказал нас пустыней! Пробродив сорок лет, мы стали умнее, и в Ханаан вошло не стадо горных козлов, а мудрый народ, который не так‑то просто уничтожить. В пустыне Б — г привил нам вкус к жажде — жажде воды, справедливости, свободы. Тем, кто жил в плодородных рощах, на зеленых лугах, в плодоносных долинах, было проще, но этой жажды у них нет. Недаром Моисей бежал в пустыню — ему
надо было привести в порядок свои мысли. Вот и мои приходят в порядок. Еще час — другой — и я буду знать, как мне жить дальше…
Солнце садилось. Горы меняли цвет. Из желтых они становились розовыми, потом красными. Тучи плыли над головами.
— Давай‑ка поедем, — сказал Гур. — Сейчас хлынет ливень, и воды выйдут из вади и затопят дороги. Волны будут сносить машины, а мы должны беречь наши жизни, назло всем.
— Не могу уезжать, — сказал Шапольский, — какая красота!
Хлынул ливень. Вода неслась по пустыне. Они бросились к пещере.
— Намолились пейсатые на нашу голову! — кричал Гур.
— Чудо! — Шапольский весело несся по лужам. — Какое чудо!
— Ерунда! — шумел Гур. — Единственное чудо в Израиле — это пустыня!
— Ты циник, Гур.
— Да, я огрубел. Я грубый человек.
— Ты грубый человек, Гур, ты жлоб, ты накупил мне калориферов, потому что знаешь, что я дрожу и летом, ты кормишь меня хурмой, потому что помнишь, как я любил ее в школе, ты не даешь мне поднять чемодан и ищешь мне квартиру с видом на Яффо. Я живу среди вежливых людей, Гур, мне они осточертели, я хочу грубых…
Ливень кончился столь же внезапно, как начался. Они даже не успели добежать до пещеры…
— По коням! — скомандовал Гур, и они вновь понеслись. Они бродили по Авдату, построенному набатийцами более двух тысяч лет назад, пили парное молоко в кибуце Ютвата, облазили Соломоновы столбы в национальном парке Тимна, пили ледяную воду из прудов Эйн — Авдата, ночевали в кибуце Сдэ Бокер, стояли над кратером Рамон.
Пустыня не отпускала их. Они потеряли счет времени — не знали, который час, день, год. Были только горы и солнце. И когда оно однажды село, Гур вспомнил, что у Шапольского вечером самолет.
— А не через неделю? — удивился Шапольский.
Они рванули как бешеные. В голубых сумерках лежала красная пустыня. Справа бежало Мертвое море. Белые молы соли уходили в небытие.
— В этот раз я даже не искупался, — вспомнил Шапольский.
— Искупаешься в следующий приезд.
— Не дотяну, — возразил Шапольский. — Если не окунусь — не дотяну.
— Дотянешь! Скотина, он, видите ли, не может без морских процедур! Он, видите ли, не дотянет! Обойдешься! — Гур резко свернул к берегу. — Самодур! Жопа с ушами!
Он резко затормозил.
Шапольский разделся и вошел в море.
— Ах, какая водичка, — пел Шапольский. — Я возрождаюсь! Я люблю жизнь и людей…
Гур сел на камень, закурил и слушал, как плещется Шапольский.
— А, хорошо! — доносилось из моря. — Уф! Потрясающе! Бррр!..
— Я сейчас тебя утоплю, — пообещал Гур.
— Иерушалаим шел заав, — запел Шапольский.
— Утоплю! — вновь пообещал Гур.
Шапольский выскочил и залез под душ.
— Будто заново родился! — орал он оттуда.
…Они вновь неслись к Иерусалиму. Сумерки сгущались. Они не произносили ни слова.
Красное зарево заиграло за горой.
— Какой закат! — произнес Шапольский. — Ты видал когда‑нибудь такой закат?!
— Вроде один уже был, — сказал Гур, — это второй. Не многовато ли для одного дня?
— На этой земле я верю в чудеса — два восхода, два заката, — сказал Шапольский. — Какие краски — настоящий Эль Греко!
Багряные отблески полыхали по небу. Гур втянул носом воздух.
— Это не Эль Греко, — заметил он, — это пожар.
Они вынырнули на гору и внизу увидели дикий огонь. Горела роща. Они сразу узнали ее. Шапольский увидел свою фигу, пламя пожирало ее.
— Они ненавидят нас, — сказал Гур, — они нас жгут…
Шапольский задрожал, рванулся вперед, хотел прыгнуть с горы. Гур еле удержал его.
— Напрасно, — повторял он, — она сгорит. Напрасно…
Роща пылала, трещали сучья. Шапольский смотрел на свою фигу и ощущал ожог на теле. Это было то же самое пламя, что спалило дерево деда.
Он хотел нырнуть в пропасть, полететь к саженцу.
— Напрасно, — повторял Гур, — дерево сгорит. Напрасно…
Внизу метались люди — с ведрами, с песком, — но саженец его горел. Саженец горел и не сгорал, это было как неопалимая купина. Шапольский не верил своим глазам.
— Чудо, — прошептал он.
И вдруг он услышал Голос. Он сразу узнал его — это был голос Б — га. Кто не узнает такой родной голос?..
Шапольский поднял глаза к небу.
— Что с тобой? — спросил Гур.
— Тише, — ответил Шапольский, — я не слышу.
— Кого?
— Тише, не мешай!
— Шапольский, — произнес Голос, — сними обувь твою с ног твоих, ибо место, где ты стоишь, есть Земля Святая.
— Сейчас, сейчас, — Шапольский начал лихорадочно развязывать шнурки.
— Ты сдурел, — испугался Гур, — что ты делаешь?!
— Заткнись! — попросил Шапольский, сбросил туфли и вновь задрал вверх голову.
— Шапольский, — продолжал Голос, — достань из левого кармана авиабилет…
— Уже, — Шапольский выхватил из кармана билет, — что дальше?
— …И порви его пред глазами Моими.
Шапольский начал рвать билет на мелкие части.
— Ты чокнулся! — Гур старался выхватить у него билет. — Остановись!
Шапольский оттолкнул его, дорвал билет до конца и бросил с горы.
— Готово! — отрапортовал он.
— Пойди из земли своей, Шапольский, — приказал Голос, — от родства твоего и от дома отца твоего в землю, которую Я укажу тебе.
— Слушаюсь! — отчеканил Шапольский.
— Возведи очи свои и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу, и к югу, и к востоку, и к западу. Ибо всю землю, которую ты видишь, Я дам тебе и потомству твоему.
Шапольский возвел очи, осмотрел всю землю, а потом пошел вниз.
— Что с тобой происходит?! — закричал Гур. — Куда ты идешь?!
Шапольский не отвечал.
— Надень хотя бы туфли, мишуге!
Шапольский босиком дошел до обгоревшего саженца и сел рядом. Галстук, рубаха, лицо — все было в гари.
Гур с ужасом смотрел на него.
— Ты опоздал на самолет, Шапольский!
— Какой самолет? — не понимал тот.
— В свою Европу.
— Какую Европу? Что это? — Шапольский сорвал галстук и отшвырнул его. — Я хочу дерево! На своей земле! Сосну! Я посажу ее! Я ее выращу. Я хочу увидеть ее большой!
— Кретин, — сказал Гур, — сосна растет долго.
— Я не тороплюсь.
— Сосна растет сто лет, — сказал Гур.
— А еврей живет до ста двадцати, — ответил Шапольский.
Людовика и Василий
В первые годы эмиграции среди разных интересных работ, как, например, мойщик общественных туалетов, была у меня одна — я работал переводчиком в эпистолярном жанре: переводил письма одной перезрелой девицы с длинным королевским именем Людовика.
Девица эта, имевшая огромный зад, коня и шале в Альпах, в поисках вечной любви побывала как‑то в России, и в городе Брянске, в сарае, безумно влюбилась в местную знаменитость — штангиста Василия. Любовь, видимо, была горячей, поскольку Василий слал письма бочками и бедная Людовика, сгорая от нетерпения и страсти, и ни хрена не понимая по — русски, несла их ко мне на перевод.
Она бормотала что‑то о таинственной русской душе и платила мне 30 франков за страницу. И чем больше писал Василий, тем тяжелее становилось в моём рваном кармане.
Иногда, когда страсть снедала её, она просила меня перевести ей письмо, не отходя от кассы, и платила за скорость.